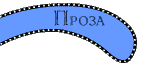ПOД ЛЕЗВИЕМ ЗВУКОВВ морду дай ему, в морду, я тебе говорю! Бежит он рысцой, закаляется – а ты спокойно, с большим достоинством идешь случайно ему навстречу – и хрясть! хрясть! хрясть!.. А еще лучше так: он сидит в президиуме, ведет собрание, ты посылаешь записочку с пожеланием выступить, он тебя объявляет, а ты спокойно, с большим достоинством идешь на сцену и при всех плюешь ему в рожу – хр-р-р! хр-р-р! хр-р-р! Все понимают – за что, и мы устраиваем бурную овацию. А этот мерзавец, подонок, вор, курва, сексот, угробивший столько народу, навалит в штаны от страха и, попомни мои слова, начнет тебя уважать, ублажать, и все ты получишь сполна, спокойно, с большим достоинством. Ты же меня знаешь, я плохого не посоветую. Сам терпеть не могу сомнительных действий, интриг, эта мелкая возня не по мне – слишком жизнь коротка и до-о-о-роги идеалы. Бу-бу-бу... Грум-вжжик, грум-вжжик... йяй-йяй-йяй... Непроглядное утро, промозглое, ледяное и слякотное, с гремучей, визгучей дверью в парадном, с тарахтеньем и шамканьем лифта, пахнущего мочой и окурками, с подметальным размахом, шварком и скребом лопат и дворницких метел в гулком колодце за окнами, где собаки прогуливают хозяев, рычащих, роющих землю, задирающих лапку под деревом, вынюхивающих друг друга. А почтовом ящике – три газетки, четыре письма, две повестки, два счета за телефон, который не отвечает, и... малюсенький мышиный младенчик: – Иди ко мне, моя крошка, бархатный, нежный лоскутик! Я отнесу тебя к мамочке, к твоей мышиной бабуле, к толпам хвостатых родичей, которыми полон подвал. – А я уже мертвый, ты разве не видишь? Надень очки, вот они – в левом кармане куртки. Надень и увидишь, как я спал и меня задушили, крепко и весело сжали меня в кулаке и – хруп! – и пи-пи!.. А потом затолкали в железную щелку. Зато мне теперь не хочется ни пить, ни есть, ни дрожать от страха, я сплю в благодати, а мясо мое отнеси под кустик, пускай съедят, меня в этом мясе нет, весь вышел, – он говорит блестящими, выпуклыми глазенками, лежа в ладони под мертвым сияньем общественной лампы дневного света. Иду и бросаю его под кустик, в глубокий снег, не оборачиваюсь, пересекаю двор, а в глазу на затылке серебристое тельце удавленника сливается с морозной снеготочивой мглой... – Нет, паршивец, ты дай мне собственную оценку – бу-бу-бу! – тогдашнего пакта между Молотовым и Риббентропом и приведи – жу-жу-жу! – бесспорные доказательства, неоспоримые факты, а не тявканье этой контры, этой газетной своры гнусных переворотчиков! Я преподаю вам не только и не столько нашу историю – грум-вжжик! грум-вжжик! – а железную идеологию нашего общества! Да заткнись ты, заткнись, вся семья у тебя такая! Мало он пролил крови, мало пересажал, мало перестрелял! Не своею он умер смертью! Скоты! Свиньи неблагодарные – грум-йяй-йяй! Гений он был, ге-е-ний! В гробу мы видали Европу и всю мировую общественность! В гробу – бу-бу-бу! Подумаешь, Гитлер?! – Нет ничего позорного, это же битва гигантов, мы расширяли границы! Мы, негодяй, законно увеличили свою территорию. Да плевать мне, что о нас думают! Вон из класса! Больше не смей приходить! – грум-грум! – на мои уроки. Ты очерняешь – бемц! – ты извращаешь идейно – бамц! – всю нашу действительность, ты ненавидишь историю родины – грум-йяй-йяй! – ты предаешь идеологию нашей партии, вежливая ты сволочь! – За что-о-о-о? Он ничего тако-о-о-о-го! Грум-вжжик, грум-вжжик, йяй-йяй! – И ты вон из класса! И ты! И ты! И ты!.. Задуш-ш-шу, как мыш-ш-шат! Мразь, шваль, газет начитались, наслушались голосов, нагляделись на переворотчиков – бамц-бамц! – на прогрессистов, ревизионистов, антисталинистов, подонков! Дзынь-ля-ля, дзынь-ля-ля, переменка, все мчатся в уборную. Жилистая, подслеповатая кошка под кустом на снегу поймала задушенного мышонка и лапой толкает, чтоб он удрал, а она чтоб его догнала, а он чтоб опять удрал, а она чтоб опять его догнала и, вымотав этой древней игрой, кровожадной, беспроигрышной, съела и облизнулась. Пища должна бегать! – А я уже мертвый, ты разве не видишь, проклятая кошка? Меня в этом мясе нет, весь вышел! – говорит он блестящими выпуклыми глазенками, вылетая из класса в мировое пространство – мороз и солнце, день чудесный! Тю-тю, Валендитрия Мутиновна, я свободен, я выброшен, о счастье! Теперь я не буду ходить на ваши – бу-бу-бу! жу-жу-жу! грум-грум! йяй-йяй! А буду гулять со своей девочкой и читать «Оправдание добра» Соловьева. А другой сказал: – Хрен вот! Выгнать меня не можешь, драная кошка, стерва и псих! У нас пока еще есть конституция, и никто не имеет права лишать меня среднего образования. Цыц, а то врежу! Нет у меня денег для репетиторов. И будешь ты учить меня, Валендитрия – хрясть! – Мутиновна, это твоя работа, тебе за нее государство платит из налогов – курва! – моих родителей, из их кармана. Так что заткни свою пасть, а то харкну. И запомни – орать на меня бесполезно, я подрабатываю санитаром в психушке, и все эти фокусы – до первой затрещины. Так что будь добра успокоиться – вот валерьянка, у меня ведь тоже нервы контуженные! Когда телефонная вилка из стенки вынута, все равно мне слышно, как звонят и звонят без конца. В этом году мрут от удушья, от легких, от запойного курева. Друг мой дальний, уж дальше некуда, красавица, умница, каторжанка, мать ограбленная, сильная, нежная, беззаветная, над черной рекой, где одно дитя уже утонуло, а другое еще купается, – это звонят о ней, завтра в двенадцать, морг 2-й МПС, цветы и серебряный рублик во гроб, в ледяные ножки, чтоб заплатила Харону за перевоз. Уж чего не терпела – так быть в долгу! А в той, предыдущей, жизни она под забором нашла больного зверька, дала молока, подстилку и блюдечко. Спи, голубка... спи, моя Людочка. Нет тебя в этом мясе, его отнесут под кустик, а летом поставят камень. Вышла ты вся. Оболочка неузнаваема. И, только домой возвратясь, я целую твое отраженье в колодце глубокой памяти под каплющей воском свечой. Я только хотела сказать, что ничего не забыла, за все благодарна, за каждую корку. Но трубку сняла пустая жилплощадь: – Почему вы звоните так поздно, и кто вы такая? Вы знаете, сколько времени? Уже одиннадцать ночи – грум-вжжик-йяй-йяй! И вообще! Мускул воды свивается с мускулом времени, перетеканье мглы, прозрачная непроглядность, тропический ливень, папоротники, хвощи, лианы, лемуры. Йяй-йяй – мой отрок сидит под бананом и пишет воспоминанья. – Он болен? – Да, – говорю, – отвращеньем к школе. Острая форма. Оба завуча и родители двух изгнанников прибыли на толковище. В кабинетике душно, пахнет бумагами, истерической кошкой и чокнутой историчкой. Историчка чокнулась в тот момент, когда его вынесли из мавзолея. Поклялась отомстить за поруганье святыни, за оскорбленье гения, победившего Гитлера и Германию, освободившего страны Восточной Европы, ежедневно уничтожавшего внутренних подлых врагов и ежегодно снижавшего цены. Она поклялась до гроба служить ему верой и правдой, обостряя борьбу, классовую и международную. Таких было много, и ей полегчало. Но ежегодно пять-шесть-семь каких-то гаденышей задавали ей самые каверзные вопросы и так мерзко, так подло, так вежливо ей возражали, что она колотилась в припадках и валяла им двойки в журнал, прогоняя с урока, или хуже того – повышала отметки боксерскому классу за кровавую кашу из начитанных этих гаденышей. Но вот сидит она, Красная Шапочка с ангельским видом, ласково улыбаясь, головка набок, губки сладкие, глазки невинные, и так застенчиво и кокетливо сумочку теребит, ярость свою загоняет в подметки. Сразу видно: ханжа и базарная баба. – Я очень, ну прямо очень – бу-бу-бу! жу-жу-жу! – любила ваших детей... до этого года. Но теперь, когда все печатается и родители читают всё без разбору – вжжик-йяй-йяй! – ваши дети срывают мои уроки своими вопросами, а также каверзными ответами – грум-вжжик! грум-вжжик! – и вступают со мной в совершенно бессмысленный спор, в бесполезный и даже вредный для их будущего политического лица. А зачем? Я даю матерьял по схеме, идейно выверенной и оснащенной всеми неоспоримыми фактами. Это готовые ответы для экзамена в любой вуз. Вы меня слышите? Умные родители понимают, что, имея мои конспекты – бу-бу-бу! жу-жу-жу! – думать не надо, и спорить незачем, а надо только единственное – грум-йяй-йяй! – отвечать, как записано под мою диктовку. Вы меня слышите? Это очень всем облегчает, спросите завучей, все они – мои бывшие ученицы – вы меня слышите? – и все сдавали в пединститут. – А я не хочу, – говорит ей одна мамаша, – чтобы моя Глаша за отметку перед вами холуйствовала и пресмыкалась. Ребенок имеет право задать вопрос! – А я имею право поставить двойку за срыв урока! – Нет, не имеете! – Нет, имею! – Никакого! – Полное! – Вы развращаете! – Вы врете! – Вы оскорбляете! – К черту! Ухожу! На пенсию! Ищите! Себе! Другого! Учителя! Тут оба завуча хватают ее за кофту, за юбку, за весь трикотаж: – Валендитрия Мутиновна! Никогда, ни за что не уходите на пенсию! Где мы найдем учителя в середине года? Для десятых классов? Где?! Ведь сегодня никто не знает, как преподавать этот страшный предмет – обществоведение! – грум-вжжик-йяй-йяй! Лучше мы выгоним этих детей из школы – бум-бум! – с их проклятыми вопросами! Пусть катятся, отщепенцы, чи-та-а-те-ли! – Вам плохо, родительница?.. – Нет, мне хорошо... Это вам плохо – грум-йяй-йяй! – Почему? – Потому что я записала – бемц-плямс! – на магнитофонную пленку. – Куда?.. Куда вы удалились?! – В РОНО! В ГУНО! В созвездие Стрельца! ...Снег, ветер, метель. Какая-то в черном плаще обнимает дерево на Гоголевском бульваре и лбом-бом-бом! по стволу, и бормочет гражданка, глотая слезы: – Прости бессилье мое и отчаянье в час молитвы о сокрушенье злокозненных сил тщеты и адской богопротивности, распинающих детство твое, о чадо божье!.. – Гражданка, вам плохо? – Нет, что вы, мне хорошо. Я всегда в это время немного дышу через дерево. Знаете, лейтенант, надо выбрать большое, сильное дерево, обнять его и прижаться – грудью, лбом, животом, коленями – и дышать сквозь него, дышать, хотя бы минут пятнадцать, лучше – тридцать, под звездами. Очищает. – И от камней? – И от камней. Возьмите мое дерево, я как раз его раздышала, и оно еще теплое. Хруп-хруп! Хруп-хруп! Это я прохожу мимо, мимо этой гражданки, мимо этого лейтенанта милиции, который в обнимку с деревом на Гоголевском бульваре очищается от камней. На попутной лошадке качусь но кольцу – до своего переулка – жу-жу-жу! бу-бу-бу! – кучер трудится инже-нером, два года работал в Индии, там в гостинице ползают прозрачные ящерицы – хапнут мушку, и видно, как мушка эта внутри переваривается до полного исчезновения к вечеру. Вот и ночь. Добрести до дивана – и набок – как дохлая мышь. Открываю первую дверь подъезда – кромешная тьма. С трудом вспоминаю код, бестолково давлю на разные кнопки. У подъезда – xpуп-xpуп! – гуляют собаки с хозяевами: – ...он тебя объявляет, а ты спокойно, с большим достоинством – бу-бу-бу! – плюешь ему в рожу – хр-р-р! хр-р-р! И все понимают за что и устраивают овацию – грум-вжжик! грум-вжжик! – слишком жизнь коротка и до-о-о-роги идеалы. Ияй-йяй-йяй! – завизжала вторая дверь, открываясь. Лифт не работает. И, чтобы насмерть не задохнуться ни на одном из шести этажей, сплю и вижу я Киев, детство и небеса Подола, ту высокую гору, где Андреевский храм в облаках, – как легко мне тогда дышалось, как всюду мне было близко и крутое мне было плавным... |
| ||||||||||||||||||||||||||||