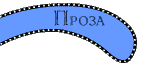ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК
с отроком: это другой, который займет его место. Экклезиаст, гл. 4 Мальчик Петя Бахов, десяти лет, очень плохо читал, никак не мог вызубрить таблицу умножения, и в диктанте он делал ошибки неимоверные – в самых несложных для написания словах! В его торчащие, обмороженные уши неудержимо лилась стройная, неистощимо образная музыка ошибок: слово «стая» мгновенно превращалось в «стайя», полное лая здешних ворон, воя бродячих псов и этого «ай», которое вечно носится в воздухе. Все ошибки свои Петя мог объяснить, оправдать вполне осмысленными причудами слуха. И пытался он это сделать, не раз пробовал доказать учителю свою правоту. Но Павел Ильич Глебов, старый опытный педагог, никак не щадил изворотливость детского ума и карал ее безо всяких поблажек, незамедлительно, страшась упустить роковой момент. Ибо считал он это видом лживости, лени и самых дурных склонностей, неизменно приводящих к скользкой дорожке и плохому концу. Так прямо и говорил: «Никому ничего такого не слышится, а один ты, ученик Бахов, слух свой извращаешь орфографическими ошибками, потому что лентяй ты отпетый. Но что хуже всего – хитрый! Вот поешь ты соловьем все сутки подряд – это сущая правда. И стоять тебе в опере, в парике, напудренном белой мукой, и петь разные дурацкие арии про любовь». Тут начинался в классе повальный смех, и урок превращался для всех, кроме Пети, в одно нескончаемое удовольствие. Дети охали, корчились, рыдали от хохота, представляя себе, как Петя стоит в опере, в парике, напудренном белой мукой, и поет разные дурацкие арии про любовь. Кто-то, заливаясь от смеха, вытягивал звонким писком: «Любо-о-овь! Любо-о-овь! Любо-о-овь не карто-о-ошка!» Тут Петю начинало мутить, из костяной ямки под слабой грудью взвивалась в самое горло противная луковая струя, и он опрометью, как зверек съежившись, бежал в уборную, чтобы рвотой очистить свою несчастную плоть от позора. А ведь он был счастливцем, удачником, и уж точно – детдомовцы в Свиристели завидовали ему неслыханно, второй год рассказывая новичкам, как вот был сирота Петя, и открылся у него семи лет от роду замечательный голос, и приехал на этот голос добрый человек, учитель пения, который, к счастью, не имел ни жены, ни детей, и усыновил он Петю, и увез навсегда в свой собственный дом, как единственного родного сына. И теперь, говорили они, поет Петя у него в доме под рояль, ходит в музыкальную школу, в субботу-воскресенье спит до двенадцати, а по ночам до двенадцати читает взрослые книги про любовь и страшные приключения. А Петю меж тем от этой «любви» рвало через день в школьной уборной, и читал он ужасающе медленно, потому что про каждое слово в отдельности, а потом про каждые два слова в отдельности, а потом про каждые три слова в отдельности – и так, пока не кончится все предложение! – видел он отдельную картину, никак не связанную с текстом. Да еще к тому же при чтении сочинялись молниеносно в его голове несусветные звуковые ошибки, уносившие мальчика далеко-далеко от печатного слова. Теперь же речь пойдет о моем главном герое, о золотом человеке, о самом сильном любовном сне моего детства (да, так вот прямо и в лоб!), чье имя, отчество и фамилия были предметом вечных насмешек в слегка образованной среде, но звучали обыкновенно и никакой не казались натяжкой, и не вызывали дурных подозрений со стороны простых жителей. Так вот, учитель пения Иван Севастьянович Бахов преподавал в столичной школе, образцовой, специальной, с английским языком, и ездил на работу в электричке, потом в метро, потом в двух автобусах, потом шел пешком – всего выходило два с половиной часа. Он даже и не просил, чтобы Петю приняли в эту школу, хотя обоим жить стало бы легче и можно было бы не расставаться так надолго. Иван Севастьянович понимал, что он усыновил недоразвитого ребенка с чудесным голосом, который вот-вот исчезнет и, быть может, вовек не вернется, и никто не поверит, что был этот голос в природе. И пусть, и ладно – чему быть, того не миновать! Тем и тронул его сирота Петя, что, принимая коробку с яйцами из уральских камней в награду на смотре детской самодеятельности, улыбнулся извинительно, ощерив лягушачий щербатый рот, и сказал звонко с шепелявым посвистом: «Спасибо за ценный подарок! Как сломается у меня голос – сразу верну всю эту коробку в целости, чтоб и другому досталась моя первая премия. А потом у другого голос сломается – и он тоже вернет...» И так легко, так добровольно согласился мальчик с мыслью о том, что природа права и что голос обязательно сломается, а премия – нет! Тут, конечно же, судьи искусства заулыбались, завздыхали, захлопали в ладоши, всячески показывая и себя непосредственными вечными детьми, невзрослеющими, с негрубеющими голосами. «Тьфу, артисты, притворщики чертовы! – буркнул тогда Иван Севастьянович Бахов, закуривая. – И зачем сироте эти дурацкие каменные яйца? Ни сварить, ни зажарить! Бред!» И раскалились, поплыли с шипением перед глазами Бахова все глазуньи, которые сготовил он сам себе на завтраки свои, на обеды, на ужины... И кто-то незримый, но твердым ножом разрезал каждую пополам, ровно-ровно. Взял Иван Севастьянович отпуск на неделю, поехал в Свиристель, заварил бумажную волокиту, еще семь раз съездил туда-обратно, намаялся в семи конторах и усыновил Петю, чьи родители и не померли, и в живых не числились, а без вести пропали в кипучей, неукротимой жизни, в гущах ее и в чащах, оказав полное доверие человечеству, которому подарили сына... Снег укрощает рвоту. Петя съедал две-три горсти снега по дороге из школы, а дома вынимал из печки чугунок с картошкой, облитой яйцами. Он обедал, блаженствуя в человечьем тепле своего первого в жизни родительского дома. А после мыл посуду, вытирал ее и развешивал полотенце в самом жарком углу, затем он долго тряс половик на крыльце, выметал скудный сор, скоблил стеклышком дощатые полы в сенях и в горнице, обметал пыль с небогатой мебели и наконец, уж и не зная, к чему бы еще приложить старание, принимался с отчаянием за уроки. Вот тут оно и начиналось! «Из пункта А в пункт В отправился скорый поезд, который без остановок прошел все расстояние за два часа пятнадцать минут», – пел некий тип-невидимка, но сквозь голос угадывалась его невидимая стать в железнодорожной фуражке, из-под которой свисали колбасками белые, мучнистые букли парика, выпирая на свет божий, как зловредное неотвязное колдовство. И скорый поезд мчался без остановок, а дым валил из трубы белыми, мучнистыми буклями, повисая враскрутку на деревьях и вкатываясь в небо. Да, это было, все это было на одном рисунке под хрустящей папиросной бумажкой в старой-старой детской книжке, которую очень любили и берегли в свиристельском детдоме. Ее даже не давали читать кому-нибудь одному, а только разрешали рассматривать издали всем вместе, но иногда, в особо хорошие дни, читали группе дошкольников. В книжке этой жила захватывающая история о злом богаче и о бедных сиротах в холодном каменном замке. А в детдоме было тепло, временами жарко, и все переживали за нищих окоченевших бродяжек. Во мглистой и своевольной голове Пети книжные герои пели на разные голоса, и в его памяти накопились какие-то незатейливые самочинные напевы, от которых воскрешались и живьем шевелились картинки под теми хрустящими, прозрачными бумажками. А воздух жизни всегда наполнен всякими хрустами. Особенно же похрустываст воздух детского одиночества, пещера, исполненная воображения, устрашающих и благородных мечтаний. «А пассажирский поезд прошел это же расстояние с четырьмя остановками за три часа сорок две минуты...» И в самом деле, в километре от Петиного окна прошел пассажирский поезд, а потом – электричка, за ней – товарняк. И все это громыхающее, многоколесное железо, стекло и дерево ехало и пело, встряхивая белыми, мучнистыми буклями дыма, мчалось из одной задачки в другую, чтобы меж пунктом А и пунктом В всегда творилось нечто, требующее сложения, вычитания, умножения и деления, – в общем, решения и ответа, решения и ответа... А в несчастной Петиной голове совершались под музыку и пение лишь картины, суть которых точь-в-точь диктовалась задачкой, – но самым таинственным образом была на ключ заперта эта суть от мудростей арифметики, от совершенства грамматики, от всего, что так мучило мальчика, мечтавшего осчастливить своего золотого отца Ивана Севастьяновича Бахова, скромного учителя пения. И Петя, оставив под половиком на крыльце ключ и записку, что обязательно вернется, пошел на станцию, чтобы сесть в электричку, а с нее пересесть на поезд, который проходит за два часа пятнадцать минут расстояние из пункта А до пункта В, и там спросить у машиниста, с какой скоростью движет он этот поезд, а потом сойти на первой же остановке и вернуться домой. Петя доехал до одного из самых огромных городов мира. Там дул ледяной зимний ветер, сияли высокие ночные звезды, а на пустой площади, облитой серебряным светом, было три вокзала. Замерзающий мальчик долго мыкался, чтобы узнать, когда и откуда отправится поезд из пункта А в пункт В. И по мере того как цыкали на него, грозили пальцем, чтобы не шутил над взрослыми людьми и шел домой к маме с папой, равнодушно и не всерьез грозились отвести в детскую комнату, чтобы не дурачил граждан и гражданок, Петина голова раскалялась, и пели в ней разные голоса, голоса отъезжающие, голоса провожающие... «Примерно через пятьдесят лет умственные способности робота не уступят мозгу человека, а через семьдесят пять лет у роботов появятся мысли, недоступные людям. И предсказать поведение этих роботов очень трудно, хотя сейчас они умеют говорить лишь два слова: “Гуд бай!”». «Компьютерная революция и захват власти машинами – хотим ли мы этого!» – из рогатой спидолы спрашивал диктор, заканчивая свою передачу под электронную музыку, мотив которой был тут же подхвачен бабусей, качающей двух внучат-близнецов: С мармеладом в бороде-е-е Петя чуть было не заплакал от горя, совершив бесполезный путь и собираясь ни с чем возвратиться домой. Но свет не без добрых людей. И один гражданин с кудрями до плеч, очень веселый и очень красивый, сказал ему шепотом: «B сущности, каждый поезд отправляется из пункта А в пункт В. Главное, друг мой, садись в тот поезд, где нет людей, – там легче дышать!» И Петя сел в холодный, совсем пустой поезд с припогашенным светом. Там стало мальчику жарко, он лег на пустую скамью и сладко зевнул. И ничего он не видел во сне, потому что сон этот был, что называется, мертвый. Из больницы Петя вышел в конце мая, когда земля расцветала и небо веяло свежим и сладким теплом. Петя ел из кулечка клубнику, которую его золотой отец, скромный учитель пения Иван Севастьянович Бахов купил за бешеные деньги на рынке. И по крайней мере эти двое людей были счастливы полностью и глубоко. Да, кстати, голос у Пети пропал начисто, задолго до предначертанной природой поры. Зато открылся у него...
И тут я ничего не могу с собой поделать, хотя отлично понимаю, что все последующие события Петиной жизни выглядят скопищем жутких натяжек и от начала до конца противоречат нашей текущей реальности. Но я не в силах остановить бег своего бесконтрольно-своенравного пера, потому что впереди – чистая правда, и она – моя, и пора спешить! Ведь Емеля сел на печь – и поехал! А лягушка оказалась царевной! А двоечник – солнце русской поэзии! Чудо неповторимо, но от этого оно не перестало быть правдой. Да, это журавль в небе, нетипичная правда чуда, но я без нее жить не могу, мне без нее нигде счастья нет! За что и приношу глубокие извинения как редакции, так и читателям.
Так вот, голос у Пети пропал задолго до предначертанной природой поры. Зато открылся у него неслыханный талант к точным наукам, и шестнадцати лет от роду он поступил в университет, и вскорости засияла его сверхяркая звезда, прославив наше отечество на весь ученый мир. А многие добросердечные обыватели описывали его судьбу в пример и в доказательство того, что вовсе не опасно брать детей из детдома – среди них попадаются очень способные и даже вот гениальные, но заранее ничего угадать нельзя. И только скромный учитель пения Иван Севастьянович Бахов, золотой человек, до самой своей смерти безжалостно казнил себя за то, что не уберег беззащитного, доверчивого ребенка от изувера с кудрями до плеч, от подлой и веселой нечисти, которая чуть было не свела Петю в могилу и украла у недоразвитого ребенка дивный талант, искусно завив его мозг такими крутыми, учеными буклями, которых Иван Севастьянович ни видеть глазами, ни гладить руками не мог никогда. Он без памяти любил своего Петра и всей душой прислонялся к вечному шуму его справедливой славы, но временами, от невозможности разделять наравне с Петей всю красоту его ученых идей, мерещилось отцу в глубине воображения, что слава сына – это дьявольский поезд, мчащийся не по-здешнему из пункта А в пункт В. И золотой человек тосковал, считая себя виноватым и как бы извлекшим выгоду из чудесного происшествия, которое вышло по его недосмотру.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||