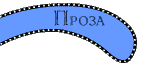Российская газета – Федеральный выпуск № 95(6367) Игорь Вирабов
Появление "Сквозера", новой книги стихов Юнны Мориц, – событие в поэзии не рядовое Сердечки бьютсяУ всякой книги-как-книги сбоку должен быть бантик: славославная аннотация (мелкими буковками). Книга-как-книга жить не может без похвал-зазывал, внушающих читателю, что автор грандиозен, массы от него содрогаются, и даже, было дело, сам Вильям Шекспирович скончался, прочитав ее, – лопнул от зависти к умению мостить словами тротуары текста! Подобных книг-как-книг на свете нынче пруд-пруди. А книга без похвальной аннотации – сразу подозрительна. Это уже какая-то-не-такая-книга. Это уже "Сквозеро" какое-то. Ведь что вышло со "Сквозером", новой книгой поэзии Юнны Мориц? Автор настоял, издатели сдались, стерли свою похвальную грамоту – и пристрочили строгое предупреждение: "Поэт Юнна Мориц не любит хвалебных аннотаций, которые давят Читателю на мозги. Издательство "Время" уважает волю такого Поэта". Заметим сразу: если это и каприз – то каприз, на который заслуженная поэтка Юнна Петровна Мориц имеет заслуженное право. Нет, ну сами подумайте. Вот возьмем соловья, например. "Соло вей, осоловей, малютка! / Весь ты весишь граммов девяносто. / У таких, как ты (подумать жутко!), – / Не бывает творческого роста". Серенький, пигалица, а в реверансах не нуждается. Зачем они соловью? Соло его не зависимо от поклонов. Вот и поэту они – зачем? Книга соткана из "жизнества" и "жизнедрожи" Юнны Мориц, хотите принимайте ее, хотите нет. Но совершенно точно: выход в свет ее "Сквозера" – событие в поэзии не рядовое. * * * "Сквозеро" составлено из четырех книг, прежде не издававшихся. "Озеро, прозрачное насквозь", "Большое Льдо", "Героин перемен", "Ужасные стихи". К ним вдобавок – стихи их цикла "Найухоемкие сигналы". И графика ее, черно-белая и цветная, "такие стихи на таком языке". Мне не удастся скрыть, что к Мориц я пристрастен, – не буду и пытаться. Она, говорят, бывает чересчур резка и жестка. Ну, предположим. Нет, возражает кто-то, – Мориц излишне иронична и язвительна. Кто спорит, кому-то "излишне". Но непременно обнаружатся и третьи, и их не счесть: тем, кто читать не разучился, умеет даже чувствовать и слышать, – мир Юнны Мориц открывается хрупким, веселым и светлым. В поэзии она распахнута, слова бодрят, как витаминчики, ее стоит прописывать как лечебную терапию. Хотя у некоторых с непривычки тут же случатся обострения, болячки и психозы лезут наружу. Но это на пользу: при регулярном употреблении хворь как рукой снимет. Любопытная странность, штрих мимолетом, – к Юнне Мориц, годами не издававшейся, пребывавшей в "черных списках", для кого-то остававшейся лишь автором детских песенок про "дырочку в правом боку", сторонившейся богем, тусовок и мейнстримов, постоянно обращались, когда худо, за помощью, за поддержкой коллеги самых разных "течений", "измов", "диссидентств", от бывших узников ГУЛАГа вплоть до теперешних бойцов либерально-стихотворческого корпуса. И она помогала, умудряясь вытаскивать из непростых или простых житейских ситуаций. Тому примеров тьма – но мы истории не пишем. Вопрос: почему именно к ней? Ни с нужными чиновниками, ни с полезными олигархами, ни даже с упакованными "оппозициями" она не водит дружб. Отроду никаких "рычагов влияния" – кроме одного: про нее всегда знали, что она – ничем не "замарана", живет по совести. И пишет по совести. И когда вдруг кто-нибудь заводит старую песню: что-то с нравственными авторитетами у нас в обществе напряженка, – нужно просто иметь в виду: вот к ней, поэтке Юнне Мориц, дорожку протоптали давно – те, кто знает, где искать авторитеты. Новую книгу, против всяких правил и стонов издателей, Юнна Мориц опубликовала в интернете еще до выхода в свет. Коммерческий успех дело десятое, – и это у нее всю жизнь без всякого кокетства. Тот, кто прочел в сети и захотел потом раздобыть ее книгу, – и есть ее верный читатель (впрочем, она настаивает, что это слово пишется с большой буквы: Читатель). Их у нее на сайте много, по статистике интернета под миллион из месяца в месяц. Но интернет, как заведение тоталитарное по сути (все и вся под контролем, шаг в сторону – расстрел цепными комментами), вываливает на Мориц, кроме любви, еще и порции своей дежурной злобы, чаще хамской – там другую редко встретишь. Хамство сегодняшнее, поправляя очочки, часто думает про себя, что оно креативно – но оно заблуждается. Интернета еще не было, а Бориса Леонидовича Пастернака, скажем, уже в 1958 году называли словечками нынешних "юзеров": "паршивая овца", "лягушка в болоте", кем-то хуже свиньи, которая "не гадит там, где ест". Так что самые отчаянные, продвинутые, либеральные и прочие хулители Мориц – оказываются абсолютными детьми слесаря Сучатова, экскаваторщика Васильцова и писательского генерала Софронова: эти трое первыми произнесли когда-то, независимо друг от друга, по велению сердца, легендарное: "Пастернака не читал, но осуждаю". Дело пасквилей ничуть не умерло – даже если сегодняшние Сучатовы сами не знают, что они Сучатовы. Мнение этой группы товарищей Юнна Мориц не оставляет в книге без внимания. В стихотворении "Караван" – их главные тезисы: "… что я, несчастная, давно сошла с ума, – / пришла маразматическая старость ,/ и уменя талантов не осталось, / конец ужасен, беспросветна тьма!". Мориц в ответ лишь вспоминает бодлеровского "Альбатроса", для которого родней стихия неба: Когда хромаешь ты по кораблю Ранит ли ее такая злоба? Юнна Мориц ранима, как любой, кто чуток и честен. Но, во-первых, виду никогда не подаст. Во-вторых, жизненный опыт у нее таков: чужие несправедливости и глупости ей лишь прибавляют сил. Бронежилет ее жизнестойкости начинала шить еще Великая война. Такие штучные бронежилеты сегодня уже не делают. * * * Чем книга важна? Она возвращает полузабытое ощущение – не разорванного в клочья, а неразрывного, слитного течения большой реки под названием "Русская поэзия". Явления, в котором автор не случайный соглядатай, а полноправный соучастник. Поэтка, отдельная ото всех – и неразделимая с летучими именами, вергилиями, сопровождающими ее по жизни круг за кругом: здесь и свой ад, и свое чистилище. Это такое "сквозеро", в котором отражаются тропинки жизни Мориц, – от самого раннего детства. Чем книга удивительна? Она возвращает полузабытое ощущение – традиционное для русской поэзии: в ней есть поэт, у которого есть Родина и собственное достоинство, и чувство предназначенности, "небеснообязанности". "Шелест неба в передней, / Снегочувство струны, – / Не получится средней / Из России страны, / Не получится средней / Из меня никогда, – / Лучше буду последней / Спичкой в Арктике льда". Чем эта книга отчаянна? Она нежна и хулиганиста, откровенна и сокровенна. Но часто неполиткорректна. Не угождает никому. Ни денежным мешкам, ни коридорам аппаратов, ни туфелькам болотным. Но так же нельзя, не угождать – затопчут?! Чем особенно наше время: рот открыл, моментально ясно, кто тут кого танцует. Мориц танцует исключительно саму себя. Она само-бытна и само-ценна. Как-то так всю жизнь умудряется, не в ногу. Неприбыльное это дело, нельзя ли как-нибудь помягче, Юнна Петровна? А вместо ответа: "Иносказаний предательство. / Иносказаний отвага. / Где никогдательство, / Там и всегдательство, / Слово – любвисто и наго!". Хватило ей сполна – и продажных всегдательств, и предательских никогдательств, – по жизни. А не перешибут они ее "любвисто". * * * Время зыбко, как рябь на поверхности "сквозера". Время то ускоряется, то тянется, и строки удлиняются или пляшут, играя рифмами, как в прыгалки и салочки. "Бывало, пойду и вспомню, / Что завтра было сегодня / И будет позавчера". Вот ей 5 лет, "зеленка, перекись и прочая аптека", такой урок – "ранимость, свойство, а не случай". Зато девчонка "видела солнце сквозь нежный стручок молодого горошка". Такое открытие детства: "смотреть на просвет все подряд – наслажденье!". Вот детская память о Киеве, где она росла: "Где-то давно гдерево, где / Киевом пахнет каштан. / Гдевочки след в этой среде / Бегством от ужаса пьян"… А следом набегает тень войны, противогаз, воздушная тревога, бомбоубежище, сосет младенец блузку, нет молока, но в блузке есть немного. А что спасало битых и голодных? Единственное – Чувство Дома. Без него "страна пылает, как солома", и только в нем секрет военного искусства. "Без Чувства Дома – нет Победы, есть убийство". Вот ей 10 лет, вот 15, когда "одиночества боится большинство, / потому что за такое ство / могут не принять за своего". А там – и "Весна" и необычность новых чувств: "Глазами глаз, губами губ – / В листву листвы, в простор просторов"… …И небо неб, и письма писем "Арктика" – это Мориц 19 лет, в 56-м она плавала несколько месяцев на ледоколе "Седов". Набиралась "улыбайского ума" там, где "все лето – день, всю зиму – тьма". И где никто не мог предположить, что вся "страна провалится под лед, / А все пространство необъятной льдины / Бандитские захватят господины / И превратят в свободы самолет". Воспоминание 20-летней Юнны – "Меня любили политзеки из Гулага, / Когда на волю привезли их поезда". Я в двадцать лет была вполне себе философ И наконец – пленительное, вольное, как юность любвей и обманок, – летит стихотворение: "Я шла по улице ногами, / И ветер платье раздувал. / Всё остальное шло слогами, / Держа, как волны, интервал. / Слогами шло сиянье свыше, / И шёл слогами кислород, / Шли облака, листва и крыши, / Моих свобод воздушный флот"... Там живопись поёт слогами, …Мориц идет кругами памяти. А в "Старом пальто", в котором "Хлебников ходил, шагал Шагал", в котором "ходят все на свете времена", – всплывает и Вергилий: конечно же в таком пальто в аду он Данту помогал ходить подобными кругами. * * * А по кому часы сверяет Юнна Мориц? По Ван Гогу, сквозь прозрачную лошадь которого "зелень светится после дождя". По пьяному Звереву – как он, пишет лишь "ветер полетной кистью". По Леонардо, съевшему перед Джокондой лук: "Чтоб слезы, марево, сфумато, все размыто – / Иначе быть не может полной ясности". Появляется Крылов, не дедушка уже, а девушка – уж очень "девственно правдив и сносит потолок". И Андрей Платонов, и "хлеб поэзии" по имени Велимир, и Александр Блок. И Слуцкий, догоняющий загадочную Ксению Некрасову, у которой на еду ни копейки. И хулиганский Гоголь с носом: "Есть размеры, подходящие для торга, / Знаешь, Гоголь, их берут, давая взятки, – / В этих брюках иногда бывает орган, / Что стихами говорит при пересадке". И Осип Мандельштам: "Бояться, что тебя убьют, / Как Мандельштама?!. / Рвись на части – / Тебе не светит это счастье, / Его не каждому дают!". На рынке тут торгуют выданной селедкой Ходасевич и Ахматова: "А между ними топчется Гомер". А Цветаева еще в Праге – с бесценными яблочками. То возмущенные родители: детей принуждают учить много Пушкина! То сам Пушкин, от которого оставлен только грим ("который – Пушкин, но без поцелуя Творца небесного и быстрорастворим"). А то и Шекспир: "Терпи, Шекспир, – нам тоже невтерпёжку, / То расстреляют ложью, то под нож – / Теперь народы чистят, как картошку!". Все это – чистый фейерверк, фонтан неразмешанных красок. Гербарий из засушенных имен вдруг оживает, чувствуя себя в ее книге, как дома. Зачем такой парад имен? Кто-то пискнет: ага, "пристроиться" к классикам? Да Мориц и сама давно по праву "классик". Хотя не любит это слово – предпочитает звать себя "стервой Сопротивления". Сама по себе и по совести. Этим и интересна. "В одном ряду с Цветаевой, с Ахматовой? / Из ряда – вон!.. / И будешь им родней". У нее и вышла книга – о себе и о своей родне. * * * Естественно, в книге есть и те самые "Ужасные стихи", за которые кто-то, узнав себя, склоняет Мориц. Она бескомпромиссна – это бесит. На этот счет есть замечательный пример. Когда-то Бертран Рассел, будучи в летах преклонных, сколотил интеллигенцию в неправительственный международный трибунал по расследованию военных преступлений во Вьетнаме – он просуществовал недолго, но успел обвинить США в геноциде вьетнамского народа. Рассел был человеком авторитетным, факты приводились неопровержимые, – что последовало за этим? Ведущие газеты свободного мира стали печатать статьи о том, что затея Рассела несерьезна, что Рассел – сами понимаете, ку-ку и выжил из ума. К чему этот пример? Да все к тому же. Юнну Мориц игнорировать трудно: факт ее значительного существования в поэзии неоспорим. Реагировать – а как? Сучатовским методом: стихи ужасные! И антирасселовским: была бы в здравом уме – не писала бы о своей (нашей) стране с такой любовью! Ну что мешало Юнне Мориц когда-то укатить из страны в эмигранты, чтобы оттуда во всех своих бедах уличать страну – обстоятельства ее жизни очень тому способствовали. И Россия была бы виновна Почему? Объяснение для кого наивно, старомодно или пафосно – но правда такова: потому что здесь для нее был и есть – "никуда не удравший читатель никуда не удравшей страны". Собственно, из этого – ясно и просто вытекает все отношение Мориц к "приличному обществу, где неприлично быть Россией". – "Нет, лучше в обществе я буду неприличном, / Чтоб ваши правила приличия забыть!". Из этого – ее по-детски чистое отношение к "людоедской эпохоти", "жиртресту протеста", "тирании либералов", ко всему, что смотрит на страну и народ свысока: что за плебс? К тому, за чем и язва Гоголь не пойдет. "Выйди, Гоголь, в знак протеста, / Соверши переворот, – / Гоголь трубку не берет!". Стихи неудобны, как зеркало. Ну кому приятно узнавать себя в издевательском "Танго": "Фашизменный туман над нами проплывает, / Над Гитлером горит сочувствия звезда, / Фашизменный туман оптически сливает/ Всё то, что не должно забыться никогда"?!. Или вот вопрос из тех же неудобных, неполиткорректных – она не боится спрашивать в лоб: а отчего гораздо эффективней Сталина страну в девяностые угробил антисталинист? "Ужасней призрака с усами – Мельчанья мухотворный дух". Хотя есть рядом и веселое стихотворение о грустном, "Эпизодчий": про открытие сухого молока взамен живого, про дойную корову, смолотую в пыль. Одно из лучших в книге. "… Не люблю я пыли!" – / Сказал, чихнув от пыли Джугашвили. / И бантиком сложив красиво губки, / Чихнула Берия, покорная ему". * * * Для тех, кто не понял, в книге есть и словарик: что означает тот или иной неологизм. Отдельно – рисунки Юнны Петровны, их надо рассматривать. Подписи к ним неожиданны. Скажем, вдруг – афоризм от канадской хоккейной звезды: "Главное – откатиться туда, где шайба скорее всего будет, а не туда, где она была. Уэйн Гретцки". Или такое вот нечаянно-чайное: "Многие слова пьют чай: встре-чай, невзна-чай, полу-чай, кон-чай!". Или совсем хрустальное: "Когда ботиночки прозрачные звенят на звездных облаках". На самом деле все рисунки Мориц тоже – сплошь из любви. Если смотреть на них глазами глаз: "И что ни нарисую на листе – / Собаку, мост, где ходят человечки, / Ведро картошки – у меня везде / Сердечки бьются, / Господи, сердечки". * * * Куда ведут ее вергилии, что впереди? "Сквозь тьму и свет" – об этом Мориц с нежностью исповедальной: "Однажды мы с тобой проснемся после смерти, / Забудем опыт свой и знаний ерунду, / Обслуживать в аду нас будут злые черти, / Но мы не будем знать, что черти есть в аду"... …Там никаких времен и никаких событий, 25.04.2014 См. также: Юнна Мориц: Быть "жертвой режима" – это не мой жанр
|
| |||||||||||||||||||||||||||||