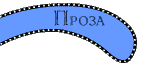"БЫТЬ ПОЭТОМ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ..."Судьба свела нас близко несколько лет назад. Мы часто встречались, но она наотрез отказывалась сниматься: незачем, ни к чему. Строгая к себе и другим, она живет наособицу, так, как считает нужным. Помимо стихов рисует. В конце концов, мы договорились, что покажем удивительные ее рисунки. И тут состоялся наш разговор. Юнна МОРИЦ, известная взрослым и детям, – живой классик, свободная, своеобразная и глубокая личность. – Юнна, как ты думаешь, почему ты стала поэтом? Что такое для тебя быть поэтом? – Ну, быть поэтом – это образ жизни. Это образ моей жизни и моей речи. А стать поэтом нельзя. Я думаю, поэтом не становятся, поэтом рождаются. И я никому не советую к этому стремиться. – Почему? – Потому что это не только очень нелегко, но и неумно – быть поэтом. Гораздо лучше быть банкиром. – Ты же говоришь: не становятся, а рождаются. Ты не можешь запретить рождаться поэтами. Уж кто родился, тот родился. – Ну, кто родился поэтом, тому советую тогда родиться во времена, благоприятствующие этому образу жизни. – А разве бывают такие? – Бывают. Конечно, бывают такие. Вот если внимательно читать всю историю, то заметно, что когда одна сторона выиграла войну, а другая проиграла, то впоследствии в одной из этих стран развиваются искусства и науки. То есть это всегда сопровождается справедливостью исторической. Мы знаем, что по ходу истории люди, которые являются героями в одной стране, являются палачами для другой страны. И все это видится на страницах учебников в совершенно ином свете и относительно весьма. Когда одна сторона выигрывает битву, другая ее проигрывает... – А поэты рождаются в стране победителей или в стране побежденных? – Поэты рождаются везде. Но в стране победителей некоторым поэтам удается добиться известности большей, чем поэтам страны побежденной. Потому что когда страна побеждает, она еще и своим языком оккупирует другую страну. Она оккупирует другую страну своими вкусами, своими обычаями, своими представлениями о прекрасном. Правда, и сама успевает со временем набраться замечательных представлений о хороших вкусах и от страны побежденных. Но все-таки надо сказать, что, занимаясь европейской поэзией всю свою жизнь, я часто наталкивалась на вопли и нытье замечательных поэтов, которые живут в маленьких странах и совершенно незаслуженно не замечены, не прочитаны, не переведены в странах больших. А большие страны как раз и есть страны-победители. – Юнна, говорят: времена не выбирают, в них живут и умирают. Твоя мысль заключается в том, что все-таки выбирают. Замечательная мысль, на мой взгляд. – Ну, конечно, времена выбирают. В одно и то же время жили Ахматова и Жданов. И у каждого был выбор. И Ахматова выбрала одно время, а Жданов – другое. Я уж не говорю о том, что самые прекрасные писатели и художники примерно одного уровня значимости тоже выбирали каждый свое время. Одно время было у Булгакова, а другое время было у Пастернака. Одно время было у Шаламова, другое – у Булгакова. Конечно, времена выбирают. Ведь при жизни Ахматовой, и Пастернака, и Заболоцкого, и Тарковского процветали совсем другие поэты. Они выбрали такое для себя время, в котором они процветали. У живых классиков было другое время. Конечно, конечно, времена выбирают. – Ты являешь собой пример человека, выбравшего для себя свое время. Я искала слово, какое лучше всего для тебя подходит и неожиданно наткнулась на, может быть, даже для тебя неприятное или странное: самоизгнание. Мне вдруг подумалось, что ты живешь в самоизгнании. Я не права? – Не права. Я должна сказать, что просто я человек сольный. А не командный. Ко мне приходят молодые в очень большом количестве, со всех концов страны и даже из других стран, у меня прямо на дому бесплатный Литературный институт, и я всем сразу говорю: ребята, сколачивайте стаю, команду. Только стаей и командой можно быстро и легко войти в литературу. – Ты говоришь это, прожив совершенно другую жизнь, пережив тяжелейший опыт... – Да, я никому не советую... – ...быть одному? – Нет, мой путь достоин подражания. Для меня это самый замечательный, самый счастливый и единственно возможный путь. Сидя на одном месте, я все время свободно странствую. – Ты живешь всем миром... – Да. – И в то же время абсолютно одна?.. – Да. – Ты абсолютно нетусовочный человек... – Ну, когда я выхожу на сцену, почему-то зал принимает меня, как не принимает большинство людей из тусовки. – Это мне понятно. Какого уровня ты поэт, мне тоже понятно. Просто я вижу, что твой психологический, твой внутренний, душевный и духовный опыт таков, что ты находишься в такой самоизоляции. Ты очень внимательно наблюдаешь, когда тебе где-то грозит присуждение какой-то премии, ты тут же себя вынимаешь из списка. Я замечала это уже несколько раз. В чем тут дело – ты так высоко ставишь свое имя? – Ну, нет, ну, почему... Я приняла очень скромную, но престижную итальянскую премию "Золотая роза", которую мне присудили в городке Пьянелла. Я читала стихи в храме, перед людьми, не знавшими ни одного слова по-русски. Были сплошь итальянцы. И актеры читали мои стихи. Это было замечательно. Но когда я вижу, что премии выдаются одной и той же тусовке, и человек, сидящий в жюри, сам может присудить себе премию, и премиями в основном награждаются люди, обслуживающие определенные правительственные группировки, озвучивающие их идеи, и люди совершенно осатанели от того, что можно ухватить сто-двести-триста тысяч долларов на этих премиях, толкнуть дверь ногой и получить там сто тысяч долларов на издание своих фотографий, и можно издать книгу в полтора мизинца за стихи, написанные в течение года, и получить в среду премию за то, что ты большой мастер, а в пятницу – за то, что ты дебютант... Это безобразие не по мне. А все-таки я прожила замечательную жизнь в том смысле, что никогда не упускала случая у советской власти попасть в черные списки и не участвовать ни в каких делах, обогащающих поэта. И мне сейчас еще более противно видеть, что люди, которые как бы победили советскую власть, являют собой зрелище совершенно отвратительное и ведут себя гораздо хуже, чем те, кого они победили. Зачем же я буду в этом участвовать? Я люблю красивую жизнь, чтобы было за что себя уважать и за что любить то, что ты делаешь. Зачем же я буду лишать себя такого удовольствия ради премии? – Твоя красивая жизнь заключается в том, что ты очень трудно живешь, что у тебя нет заработка. Красота этой жизни в том, что ты позволяешь себе вот такие жесты. Это редкостное свойство, я должна тебе признаться, и оно заставляет меня относиться к тебе с огромным уважением. – Оля, когда ты говоришь, что это редкостное свойство, ты не совсем искренна, поскольку это нормальный стиль поведения просто приличного человека. Вот недавно я прочла, что у нас один жалующийся постоянно на свою отверженность, на свои бедствия писатель продает свою книгу всего-навсего по пятнадцать долларов и еще издает журнал, который для богатых людей продает по пятьдесят долларов за штуку, а для бедных – по пять долларов за штуку. А я при советской власти девять лет была в черных списках и не издала никакой книги. И при антисоветской власти я не издала ни одной книги за все эти годы, хотя написала не одну книгу и публикую регулярно их в журнале "Октябрь". – Одну премию ты приняла – это премия журнала "Октябрь". – Да, я в этом журнале печатаю раз в год или раз в два года книгу своих стихотворений. Но за все время наступления антисоветской власти я не издала ни одной книги, хотя при советской власти я девять лет не издавалась как антисоветский поэт. И люди, которые сейчас процветают на легендах, связанных с их правозащитной деятельностью, эти люди без конца меня боялись. Они боялись даже пить рядом со мной кофе, поскольку мои стихи и мои мысли казались им ну, уж слишком опасными. Теперь они большие борцы за свободу и пожинают за это большой урожай. И, пожалуй, это правильно, потому что это – их стиль жизни, а это – мой стиль жизни. И я не чувствую себя нищей и бедной. Меня все-таки очень любит читатель. – Я тебя тоже очень люблю. Помимо неизвестного читателя. То есть он известный, конечно, но я воплощаю эту любовь, сидя здесь. Ты говоришь, поэт – это образ жизни. Твой образ жизни – работать безостановочно. Ты пришла сегодня ко мне после того, как не спала ночь. Работала. И это каждый раз так. То есть, для тебя ночь как день. Скажи мне, пожалуйста, напряжение, в котором ты живешь, оно жизнь продлевает или сокращает? – Ой, Оля, если в этой стране, замечательной, прекрасно нас мучающей, бесконечно пытающей, унижающей, ограбляющей, не ставящей ни в грош, я прожила 60 лет, конечно, продлевает. Конечно, продлевает. – Ты пишешь или рисуешь... Расскажи мне, из чего состоит твоя ночь? – О, это божественное совершенно время. Я знаю, благодаря чему оно расширяется. Ночью у меня другое дыхание. Я чувствую вещи, которые не чувствую и не вижу днем. Это особый род жизни, особый род существования, я вижу то, чего не видят многие люди, и не дай Бог им это видеть. Поскольку, ведь ты же помнишь, что когда является что-то особо прекрасное в древних текстах, то оно устрашает. Красивое тоже устрашает. Вообще любое переживание – это страшно. Можно умереть от разрыва сердца, увидя что-то ужасное и увидя что-то прекрасное. – От радости умирают... – Да, конечно. Этого надо всячески избегать. Я вижу что-то прекрасное, я слышу необыкновенные вещи, я живу в гармонии с собой. Я пишу стихи, прозу. Я рисую. Я даже пою. Днем вся эта злободня, когда уже ты не находишься в этой мгле, бубня свои глупости, она не дает мне такого состояния. Это не значит, что днем я живу другой жизнью. Точно такой же жизнью я живу. Но происшествия, которые бывают с моей душой, и странствия, которые бывают, они бывают ночью. Я человек не то чтобы тьмы, я по гороскопу не просто Близнец, но такая птичка озерная, которая очень любит погружать голову в озерную глубь и там видеть свой мир и испытывать нечто. Вот я в эту озерную глубь погружаю свой клювик и соответствую своей космической гармонии... – А как тебе удается избегать пустот в жизни? Ты этому научилась или это природное твое свойство? – Ну, в молодости всегда мучаешься, потому что из пустоты в пустоту попадаешь и никак не понимаешь, почему то, что для других прекрасно – для тебя пустота. Вот человек вскочил, намазался, глотнул фужер коньяка, побежал туда, где пляшут-поют люди, которые впоследствии могут быть ему полезны, а он им – полезен. И это очень полноценная жизнь, которая дает свои замечательные плоды. А я так устроена, что для меня это пустота. Пустота – ведь понятие относительное. Я когда попадаю волей случая на какие-то тусовки... допустим, я пошла послушать Кисина, а после этого все пошли на какую-то тусовку. Я слушала Кисина – я была здорова и счастлива. Я попала на тусовку – у меня стала кружиться голова и я почувствовала себя плохо, как человек, который не просто попал в пустоту, а рухнул туда, как лифт в детективном кинофильме. А другие люди были абсолютно счастливы – не потому, что они такие низменные и отвратительные, а просто потому, что им это подходит, а мне не подходит. – Тем не менее ты меня сразу поняла, когда я сказала о пустотах. Скажи, Юнна, а вот когда тебя выгоняли из Литинститута, твое имя не разрешали упоминать, тебя не печатали, ты была подвергнута остракизму – внутренне тебе было трудно с этим смириться и справиться? Или ты весело это воспринимала? Или еще как-то по-другому? – Это было невыносимо. Но по ходу дела открывались вещи по-своему замечательные, когда ты вдруг обнаруживал, что люди, числящиеся в передовых, прогрессивных и наиболее светлых рядах, бросают человека, попавшего в трудное положение, в первую очередь, потому что они боятся заразиться неудачей. А вот люди, от которых ты меньше всего ожидаешь помощи и поддержки, которые числятся по ведомству туповатых, черствоватых и не понимающих высоких материй, как раз эти люди вдруг не просто предлагают тебе свою поддержку, а оказывают ее и делают это так, как просто подают стакан воды, без всякого почета. Я узнала цену людям. И мне открылись вещи совершенно не соответствующие тому, что представительствует в витрине нашей действительности. Это было очень трудное время. И это было время моего личного, замечательно интересного опыта. Ну, что, я приехала из Арктики, проплавав там четыре месяца на ледоколе... – Как ты попала в Арктику? – Я училась в Литинституте и считалось, что я замечательный поэт, учусь замечательно и заслуживаю поощрения. В виде поездки. И все думали, что я поеду в Коктебель, в Сочи или еще куда-нибудь. А в это время одна молодая девушка, которая собиралась и уже договорилась поехать в Арктику и писать очерк, лишилась напарницы. А на корабль не берут одну женщину – это суеверие такое очень важное. Только двух. Женщин на корабле должно быть четное число. И она искала кого-нибудь... – Я плавала на корабле и не знала этого, я знала, что женщина на корабле – к несчастью. Оказывается, одна женщина... – Одна. И я ее спросила: а почему не поехала твоя напарница? Она говорит: она вдруг вспомнила, что в Арктике холодно. Я сказала: я поеду с тобой. Она говорит: ну, ты же не путешествовала по горам, ты не альпинист, ты не занималась никогда никакими такими значительными видами спорта. А я говорю: а я поеду с тобой, мы, поэты, говорю, такие странные люди, возьми меня с собой. И она привела меня к большому человеку. Он был большой и по должности. Он был министром или замминистром Севморпути. Он увидел меня в ситцевом платьице и сандаликах и говорит: вы так собрались в Арктику? Я говорю: да. Он сказал: взять, такого человека надо взять. И я поехала в Арктику на четыре месяца. Это была вот премия за способности. А когда я сошла с корабля и мне было трудно ходить по земле довольно долго, потому что когда ты плаваешь на корабле, потом земля под тобой как бы качается, и развалка матроса – это не потому, что это такой шик и стиль, а просто трудно приспособиться потом, палуба же качается... Вот представь себе, там даже больше, чем четыре месяца, я была. И потом я впервые летела на самолете оттуда. И это был самолет ледовой разведки. Он летел четырнадцать часов без посадки. Там не было сидений никаких. Сидели на полу, на шкуре. – Скамейки такие, нет? – Ничего не было, все сидели на полу, на шкуре. А в кресле сидел этот министр или замминистра Севморпути, Бурханов была его фамилия, его тогда сняли, потому что в проливе Елькицкого задавило несколько кораблей. И вот он из кормы в нос летал на этом кресле и говорил: меня сняли, ну, ничего, я буду писать книги. А мы сидели на полу, и я поняла, что мы прилетим скоро в Москву, потому что по очереди выходили пилоты-полярники и они брились, женщины их ждали. Это была моя первая поездка на самолете. – Первый полет. – А в следующий раз я купила через, допустим, два года билет на самолет в Киев и вошла в самолет и увидела сиденья, и стала рваться из этого самолета, я решила, что я не туда попала, что это автобус. Стюардесса говорит: вы куда, вам сюда. Я говорю: нет, в самолете не бывает сидений. Она решила, что я сумасшедшая. Ну, вот это жизненный опыт. Разве я посоветую кому-нибудь попадать в такие дурацкие положения? Никогда в жизни. Но уж если я попала в такое дурацкое положение, я не могу сказать, что Бог послал мне худшей жизни из возможных. Нет, это интересно. Я прожила интересную жизнь. Очень трудную, но очень интересную. – Ты научилась гармонии, да? – Да, как только я вернулась из Арктики, меня сразу выгнали из Литературного института за нарастание нездоровых настроений в творчестве. Поскольку я увидела другую жизнь, я увидела острова, где люди стреляются от одиночества. Молодые люди. Где первые годы они узнают все друг о друге, а на второй год друг с другом порой не разговаривают. Где люди сходят с ума, где люди бегают за пищей не в гастроном, а по скалам. Я же попала на Новую землю, когда там, как сказали, из моря пришли недоброкачественные отходы атомных испытаний. А на самом деле, там уже прошли эти атомные испытания. Я ничего не понимала. Я видела, что что-то странное. Ничего не понимала. – Но это на тебе не отразилось? – Ну, мы все облучились. Все облучились. Но я не в большей степени, чем те, которые погибли, допустим. Я никогда не думаю, что мне хуже, чем тем, кто не облучился. Я думаю, что мне лучше, чем тем, кто погиб. Я приехала в Москву и увидела, что то, что я уже знаю, оно совершенно не соответствует тому, что царит вокруг меня. Все вокруг меня призывали меня воспевать революцию и исправлять ее. Я не хочу называть фамилии замечательных людей, которые сейчас процветают как большие борцы за свободу, но они все брызнули от меня в стороны, поскольку они воспевали в своих стихах свои мысли о том, как прекрасна революция и как надо ее углублять, улучшать, украшать веночками, цветами и любить. Якобы ценность человека определяется любовью к ней. А я не столько эту революцию ненавидела, сколько была в шоке от другой жизни, которую я увидела. Я увидела гостиницу под названием "Черный таракан", где люди живут, пробираясь по контракту на Север, и каждый раз, пробираясь по контракту, надеются, что вот они два года отработают – тогда было три года на материке и два года на острове, – вот отработают, вернутся, купят дом и будут жить нормально. Но никто, почти никто из тех, кого я знала, не сумел осуществить свою мечту, потому что люди спивались. Они, вырываясь после зимовья, жили полгода в свое удовольствие, продолжая спиваться, но просто уже не во время полярной ночи, и снова возвращались туда. – Я знаю, что ты и сейчас переписываешься с людьми и как бы всегда слышишь этот голос, всегда знаешь, что происходит в жизни народной, скажем так. Почему ты так устроена, что этот голос для тебя является приоритетным? Ведь очень многие из нас смотрят на вещи с другой точки зрения. Допустим, понимая, почему трудно реформировать нашу страну. Я имею в виду людей, которые хотят добра, но делают это или неумело, или неумно. Я хочу сказать, что в то время, как большая часть интеллигенции сочувствует реформаторам, ты сочувствуешь народу. Всегда. Вот это для тебя является почвой, что ли, на которой ты растешь. Почему ты вот такая? Сама ты думала об этом? – Ну, это очень просто. У каждого человека есть какое-то свое предназначение. Вот в детстве, лет в десять, меня поразила мысль о том, что я хожу по земле, а в этой земле лежат все умершие когда-либо люди. И среди этих людей – и лучшие люди, которые были на земле. И все они лежат там, не взяв с собой ничего, кроме души своей. И я не видела разницы между человеком, который прорвался в элиту или в военачальники какого-нибудь древнего общества и оттяпал себе землю, и между мальчиком, играющим в ножичек до тех пор, пока он был жив – знаешь, есть такая игра в ножичек, в детстве я в нее играла... – Да, между пальчиками, да... – ...и между бабкой, которая сидит и смотрит вдаль... Я думаю, что нам судьба подарила гениальную совершенно сцену в фильме Отара Иоселиани, когда идет поезд, шлагбаум и крестьяне с косами и граблями смотрят на людей, которые едут в этом поезде. Эта сцена – лучшее, что я видела в нашем кино при моей жизни. Потому что там ответы на все существующие нынче вопросы. И почему страну перестроить трудно. И почему перестраивают ее люди, которые, ну, скажем прямо, ведут себя плохо. И почему мне интересен народ. Потому что мне интересно не то, как человек выглядит, не то, как он нарядился, не то, какой пост он занимает. Мне интересен человек как загадка природы. А загадка-то заключается в том, что, как я написала, время всех подберет на лопату. И чего уж там выпендриваться. Бог-то, он есть. Есть. – У тебя в жизни была такая острая ситуация, шлейф которой как бы тянется. Я думаю, это шлейф глубокого непонимания. Считается, что ты обидела тех молодых поэтов, которых советская власть не печатала, унижала, а когда пришел момент для них расправиться и сказать свое слово, ты была против. Ты сказала... то есть то, что ты сказала, ты знаешь лучше меня. Я имею в виду "смогистов". Это случилось в Центральном доме литератора, где ты выступила против них... – Оль, а что такое "смогисты"? – СМОГ – Самое Молодое Общество Гениев. – Ну, да. Но это было общество весьма разношерстное, среди людей, которые называли себя самыми молодыми гениями, были люди в возрасте от 19 до 45 лет. Это были очень разные люди. И говорить о "смогистах" в целом – это все равно, что говорить в целом о ЖЭКе или о Союзе писателей. Надо говорить об отдельных творческих личностях. – А что произошло? – Каким образом я, человек, годами не печатавшийся, сидевший в черных списках, слывший опальным поэтом, могла кого-либо запретить, мне представить себе трудно. Мне кажется, что ты рассказываешь какой-то смешной слух, анекдот. Кого я могу запретить? Я никогда не была даже делегатом совещания молодых. Не говоря уже о том, что никогда не была делегатом никакого съезда. Я никогда не входила ни в какие органы правления Союза писателей. Я никуда не входила, меня никуда абсолютно не пускали, я никогда не жила в Переделкино, я никогда не ездила за границу. И я была в числе людей, книги которых иногда выходили, потому что еще были живы крупные люди, действительно, с именами навек, которые любили мои стихи и каким-то образом по возможности, по капле сочили в печать, когда было возможно. Кого, подумай, что ты говоришь, Оля, я могла запретить? Ты что? "Смогисты" приходили ко мне домой чай пить. "Смогист" Губанов приходил. Был он человек разный. Говорят, пил. Но ко мне всегда приходил трезвый, обувь снимал у входа. Стихи читал. Я даже поспособствовала публикации его стихов в "Юности", я, конечно, там не работала и ничего не могла сделать, но ведь тогда по цепочке все делалось. Один другому говорил: вот хорошие стихи человек пишет. А кто-то мог оказаться в конце этой цепочки, случайно, заместителем на три минуты, человека, уехавшего в отпуск. И этот уехавший в отпуск человек ни за что бы не напечатал, а вот его заместитель на три минуты вдруг брал и печатал. Кстати, как раз "смогист" Губанов меня предупреждал, чтобы я была крайне осторожна с его коллегами по цеху, поскольку есть "смогисты", которых он даже и в глаза не видел, а некоторых знает и знает, что, на его взгляд, они люди крайне сомнительные и даже, как он говорил, стукачи. Так что, говорил он, Вы особо не будьте так доверчивы к людям, которые приходят и говорят, что они "смогисты". Тут стукачей, говорит, на каждые два талантливых человека штук пятнадцать. Мы же, говорит, под колпаком. Вот все, что я могу сказать. – Значит эта история идет оттуда? Насколько я помню, речь шла о каком-то собрании в какой-то маленькой комнате ЦДЛ, где говорили о том, печатать или не печатать кого-то из СМОГа, и будто вошла ты и сказала: да зачем же их печатать, если еще не напечатаны Цветаева, Ахматова и Мандельштам! Вот такой сюжет. – Оля, ну, как же можно себе представить, что вот вдруг я войду в комнату, где сидят какие-то люди, чья судьба решается, и такое скажу? Если я вошла туда, где их обсуждали, значит, естественно, что они меня пригласили. Меня, действительно, пригласили "смогисты". Я пришла. И там были редактора журналов, газет, которые стали как-то очень подозрительно говорить, что всех "смогистов" надо сейчас взять и напечатать. А меня же Губанов предупредил, что у них там на каждые две штуки пятнадцать... и так далее. И я, действительно, сказала, что это замечательно, если их будут печатать, но ответьте мне на вопрос: почему не напечатать сперва Гумилева, Мандельштама, Волошина? Но разве мой вопрос не был остроумен? Я остроумный человек. Если "смогисты" решили, что из-за этого им был закрыт их путь в литературу, то тогда надо предположить, что я гений импровизации. Но они сами меня пригласили. Что же плохого я сказала? Тогда, действительно, ни одной строки ни Мандельштама, ни Гумилева не печатали. – Тебе часто приходилось сталкиваться в жизни со шлейфом слухов о себе? – Постоянно. Я привыкла. Я привыкла, и если ко мне человек приходит и что-то рассказывает, что он обо мне слышал, я думаю об этом человеке очень плохо. Во-первых: зачем он мне это рассказывает. Если он слышал, то слышала и я. И я всегда к его слуху добавляю что-нибудь такое про себя ужасное, что я выдумываю на ходу, что он несет дальше и ко мне уже эти слухи возвращаются в совершенно невероятном виде. Во множестве этих слухов есть и большой мой вклад. – Я не отношусь к таким людям, которые приходят к тебе со слухами. За все время нашей с тобой дружбы я первый раз спросила об этом и спросила сознательно для того, чтобы снять вопрос раз и навсегда. – А зачем его снимать? Ну, пусть они думают, что я такой могучий человек, что вот шла мимо комнаты, вошла в нее, сказала: а почему не печатают Мандельштама и Гумилева – и целое поколение закрылось. А что, тебе жалко, пусть будет такой замечательный, могучий, сильный, таинственный слух... – И такой могучий, таинственный человек, который на самом деле живет без кожи... Ты когда пишешь стихотворение, Юнна, и когда ты не пишешь его – ты равна самой себе или с тобой что-то происходит отдельное, особое, когда момент стихосложения наступает? – Происходит. Происходит, когда наступает этот момент. Но я бы не сказала, что во все остальное время я человек совершенно нормальный, с точки зрения людей, не пишущих стихи. – Я это и хочу сказать. Меня что в тебе поражает... Вот есть люди, с которыми я знакома, они обыкновенные или необыкновенные, а потом, оказывается, что они еще и пишут стихи. Когда же я общаюсь с тобой, для меня каждое мгновение волшебно, потому что ты постоянно существуешь как волшебница, с каким-то совершенно волшебным взглядом на вещи, с речью абсолютно нестандартной, с совершенно сказочным умением соединить несоединимое. Я получаю необыкновенный импульс от тебя. Тебе, наверное, это не видно самой, но я-то вижу, что ты такое чудесное создание. – Ну, я могу сказать, что живу интересно. И в этом смысле я очень богатый человек. Очень многие люди, замечательные люди, вложили в меня много всего в смысле хорошего вкуса. Ведь хороший вкус, по-настоящему хороший вкус, – это не какой-нибудь там пиджачок из бутика или чего-нибудь "от кутюр". Хороший вкус – это бесстрашие. А когда человек бывает бесстрашен? Когда он что-то может сделать прекрасное. И когда он чувствует, что он сделал это прекрасное. И добавит он к этому еще что-либо, не добавит, уже, как говорится, шедевр есть – творение Божье может умещаться на кончике иглы, от размера ничего не зависит. Я устроила себе такую замечательно богатую, роскошную, вне зависимости от количества денег, жизнь за счет умения читать замечательные книги, общаться с людьми совершенно замечательными. Это люди, которые не находятся ни в Союзе писателей, ни в Белом доме. Они были на кораблях, в шахтах, рудниках, на улице. Ну, просто я могу пройти мимо любого прохожего, и если я захочу, чтобы мы с ним заговорили, я ему не скажу ни звука, ни слова – он ко мне подойдет и всю свою жизнь расскажет. – Ты имеешь еще в виду книги, которые стоят на твоих полках... – Да. Но я же не читаю там какие-нибудь книги, которые жить помогают в практическом смысле. Я читаю книги, которые помогают не строить, не оборудовать, не обустраивать, а просто вот так – свой мир создавать. У меня слева книга о том, как древние римляне по утрам чистили зубы пемзой, смешанной с мочой десятилетнего юноши, а справа у меня будет лежать Катулл в оригинале со словарем, а посередине будет стоять чашка кофе и мое стихотворение, а рядом будет лежать картина, которую я пишу, и в телевизоре будет кто-нибудь сидеть совершенно самодурски и говорить: а я вам этого не отдам, а вот будет, как мы хотим, а мы вот авторитарные, народ нам не указ, а вот я самый умный, а вот этих надо убить, а тех надо расстрелять, а этих надо повесить, а я – золото, а вы – дерьмо. И все это вместе проходит ко мне в уши не в том виде, в каком оно имеет место быть в жизни. Это же целая вселенная, театр, и я отношусь к этому соответственно. – Ты еще, смотря телевизор, составляешь словарь... – Ага, словарь речевухи, у меня есть тетради речевухи, да. И там из этой жизни рождаются замечательные вещи, которые есть в моих стихах и рассказах. Например, плевательный бассейн. Эроплан. Или: в данный момент, где на базаре продается данный момент. И множество других вещей. И злободня, как одно слово. Вот, например, я стихотворение написала, что по-английски имиджмейкер означает мордодел. Потом написала стихотворение "Придут мордоделы". У меня: и лицу нужна подтяжка и пересадка глаз. Вдруг открываю "Общую газету", там Митрофанов некий пишет: вот как замечательно образно обозвал имиджмейкеров мордоделами наш молодой политик. Но мне же приятно, что молодой политик... – Уже прочитал тебя... – Да, прочитал. И я знаю, что читателей огромное количество, поскольку какую газету ни откроешь, там обязательно есть вариации на тему. Или: большой секрет для маленькой компании. Или собака бывает кусачей. Или: когда мы были молодые. Даже в одной газете была написана строчка: не бывает напрасным прекрасное. И подпись: Марк Розовский. Эта строчка из стихотворения моего, посвященного Окуджаве, стала песней, спел, видимо, Розовский. Было это в "Неделе". Я написала в "Неделю": господа, пожалуйста, оповестите своих читателей, что Марк Розовский – мой близкий друг, я его обожаю, но строчка все-таки моя. Мир прекрасен, чудесен, необъясним, Оля. А ты говоришь: "смогистов" запретила. – Теперь я прошу вас показать вот эти два рисунка... И спросить тебя, Юнна: почему ты стала художником и что это для тебя значит? – Ну, всю жизнь рисовала, выросла в рисующей среде, сестра – архитектор, двоюродный брат – художник. К нему приходили люди учиться, он был педагогом. Все рисовали. В детстве не было ни карандашей, ни красок, потому что война – откуда? Ветку берешь, зарисовываешь все дворы в городе. Кусочек мела получил – все зарисовал. Жилья не было вообще лет до 32-х никакого. В семье нарисуешь – кладешь в карманы. Всю жизнь рисовала. Я когда-то в интервью в "Литгазете" сказала, что я не пишу отдельные стихи, которые потом собираю в книгу. Я пишу сразу книги стихов. Естественно, поэт икс, или игрек, или зет, весьма крупный, ответил мне, что как известно, книги стихов не пишутся. Ну, теперь, как известно, они пишутся. И журналы хвастаются, что они печатают книги стихов. Прежде чем написать книгу стихов, я выстраиваю какой-то мир, это совсем другое, чем собрать их в кучку или поручить родственникам собрать их в кучку, а потом напечатать. Я выстраивала этот мир и в рисунке, живописи, в графике. Я зарисовывала на бумажках. Я рисовала в основном на листах, на каких писала стихи. Но это было в цвете. Это не было каким-то дилетантским рисованием. Это было серьезно всю жизнь. И я без этого просто и жить не могла. И когда меня спрашивают: а почему нет выставок, почему вы не показываете, собрали бы журналистов, были бы рецензии, все бы увидели, все бы узнали?.. Когда я все это слышу, мне уже становится плохо, поскольку это надо оправлять в паспарту, вешать, собирать журналистов, отвечать на дурацкие вопросы... – Начинается тусовка... – Да, начинается тусовка. Есть мои картины у некоторых людей на Западе, которые приглашали меня на выступления, на фестивали. Я не возила черную икру и водку, у меня денег не было, я везла свою картину. Они были счастливы. Одно время я не имела денег на краски, вот перестройка началась, а у меня одни макароны за шкафом. То есть совершенно и на еду денег нету. И я рисовала окурками. Я написала несколько совершенно замечательных работ окурками, их пересняли на ксероксе, и на одном из западных фестивалей поэзии напечатали, и распространяли, и были в полном восторге. И я там сидела в номере гостиницы и рисовала окурками. Потом журнал "Россия" дал... называлось это "Вернисаж Юнны Мориц", по-моему, десять моих работ, и цветные там были, и были работы, сделанные окурками. Берешь лист бумаги, на котором стихи писать даже очень трудно, но я пишу, это так называемый желтый срыв, ты прекрасный журналист, ты прекрасно знаешь, что такое желтый срыв. Пишу окурком. Но ведь потом важно еще закрепить это дело, я разработала эту систему. Вот никакой тебе мастерской, никогда. И завалена я картинами, стихами, еще чем-то. Ну, это мир. И я в нем живу и мне хорошо. – Я знаю это. И тебе, и себе я желаю счастья продолжения. Мы устроим в нашей программе твой вернисаж, если ты не против? – Я – не против. – Так и поступим. – Я не против, это первый случай, когда я не против. Во-первых, потому что я люблю с тобой разговаривать. Больше дома. Ну, в виде исключения, один раз можно и по телевизору. – Мы все равно дома, только не у тебя, а у меня, но под дулами камер. Интервью – Ольга Кучкина "Время Ч". 2001 г.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||